Диана Сеттерфилд: «Если автору становится скучно, то читатель уж тем более заскучает»


Фотография: Susie Barker
В издательстве «Азбука-Аттикус» вышел роман «Пока течет река» — третья книга Дианы Сеттерфилд, прославившейся неоготической «Тринадцатой сказкой». Егор Михайлов поговорил с британской писательницей о смерти, прокрастинации и Достоевском.
— Я искал хороший вопрос, чтобы начать разговор, и тут буквально сегодня узнал, что вы к двенадцати годам прочитали чуть ли не всего Достоевского. Как так вышло?
— По четвергам родители водили меня в библиотеку. И библиотекарша заметила, что я читаю очень много. К тому времени, как мне исполнилось 11 или 12, я уже прочитала все детские книги. Тогда она разрешила мне посещать взрослую секцию и выбирать там все, что я захочу. Если подумать, никто не говорил мне, что читать. Учителя в школе, родители — все взрослые просто позволяли мне читать то, что мне захочется. Никто не говорил: о, это тебе еще рано, а вот это как раз. Так что мое чтение было довольно беспорядочным.
Я любила читать книги авторов с — так мне тогда казалось — странными именами. Урсула Ле Гуин, Айзек Азимов — это была научная фантастика, в самый раз для 12 лет. Так что, когда я увидела на полке книги с каким‑то странным именем, которым оказался Достоевский, я решила, что это будет что‑то в том же духе. Взяла одну из книг домой и прочитала. Но это не была книга в том же духе (смеется).
— Если подумать, то связь между этими книгами все же есть: у Достоевского есть книга «Бесы» (в одном из английских переводов — «Possessed». — Прим. ред.), а у Ле Гуин — «Обделенные» («Dispossessed». — Прим. ред.).
— И правда! Знаете, много лет спустя сложно реконструировать, каким был тот опыт чтения. Я ведь с тех пор перечитывала Достоевского, уже будучи взрослой, со взрослым пониманием. Но трудно представить, что в нем нашла 12-летняя девочка, которая жила довольно скромной жизнью, никогда не путешествовала, и в семье все было спокойно. Моя жизнь не была ни драматичной, ни захватывающей. Что я нашла в этих историях? Мне они казались странными: отчасти потому, что они и впрямь странные, но отчасти и потому, что они не предназначены для детей. Но еще они казались мне абсолютно неотразимыми. Бывало, что я читала одну книгу дважды за неделю: дочитывала, тут же открывала снова и читала сначала. Я многого не понимала, но не могла бросить, я читала, читала и читала. Наверное, это говорит кое‑что о Достоевском и о детях.
Писатель, действительно знающий свое дело, может дотянуться до читателей далеко за пределами аудитории, для которой он пишет. Хорошо написанную книгу могут оценить люди, которые вроде бы никак не должны ее полюбить.
А что касается детей, никогда нельзя недооценивать, что может читать ребенок. У Достоевского в книгах есть много того, что мне, взрослой, кажется совершенно неподходящим для девочки, но всех этих взрослых вещей я тогда просто не замечала.
В общем, я обязана доброте библиотекарши, которая нарушила правила и разрешила мне брать книги для взрослых. Благодаря ей я начала читать так, как читаю теперь. Я не помню ее имени, не могу вспомнить, как она выглядела, но, думаю, что она была ключевым человеком, повлиявшим на мою читательскую судьбу. Так что я все еще благодарна этой женщине.
— В моем детстве тоже был такой библиотекарь, боже их благослови.
— Да, это очень, очень важная профессия.
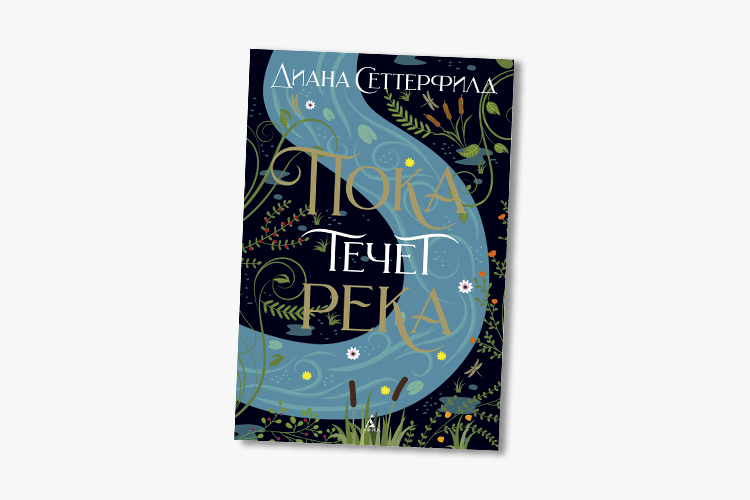
— Вы в детстве уже мечтали стать писательницей?
— Да, мечтала. Правда, когда я была совсем маленькой, я не понимала, что истории придумываются людьми. Они казались мне такими волшебными и реальными, что я принимала их за природные явления, вроде молнии или огня. Я не сразу поверила, когда мне впервые объяснили, что у них есть авторы. Мне казалось невозможным, что сознание человека способно породить целый новый мир. Для такого надо быть богом или волшебником. Но когда я поняла, что книги пишут люди, то решила, что это, видимо, самая поразительная вещь в мире.
Я ведь ценила чтение превыше всего, для меня самым важным в жизни было читать рассказы, растворяться в этих мирах. Поэтому и возможность дарить такой опыт другим людям была самой ценной вещью, к которой я могла стремиться. Понятное дело, мне хотелось писать. Но я прекрасно сознавала, что я не бог и не волшебник, и пришла к выводу, что люди, которые этим занимаются, должны как‑то отличаться. Может, у писателей двенадцать мозгов вместо одного или что‑то в этом роде. Пришлось умерить амбиции.
Я все равно хотела как‑то связать свою жизнь с книгами, поэтому думала стать библиотекарем или работать в книжном магазине, но в конце концов стала преподавательницей французской литературы в университете. Но со временем эта работа приносила мне все меньше счастья. Британские университеты — довольно деморализующие места. В моем университете многие мои коллеги постоянно болели, или стрессовали, или находились в депрессии. Меня такая перспектива не устраивала. И случились две вещи, которые вдохновили на меня на то, чтобы взяться за роман.
Первая была довольно печальной. У меня была кузина почти моего возраста, на пару лет старше, молодая мама с двумя маленькими детьми. И вдруг она умерла — после непродолжительной болезни в расцвете сил. Эта смерть меня потрясла. Помню, как возвращалась домой с похорон в поезде и думала: если ты недовольна своей текущей жизнью, если ты хочешь заниматься чем‑то другим, не жди пенсии, чтобы наконец начать жить. Никогда не знаешь, что случится завтра. И нужно жить жизнь так, как хочешь проживать ее прямо сейчас.
А потом меня пригласили на рождественскую вечеринку. Было чудовищно холодно, ужасный гололед. И половина приглашенных гостей слегла с гриппом. А другая половина и рады бы прийти, но дом находился в низине, и к нему было очень сложно пройти по льду. Все эти люди посмотрели на свои дорогие наряды и высокие каблуки и решили не идти на вечеринку. Просто развернулись и пошли домой. Но я-то была одета правильно: на мне были сапоги с хорошим сцеплением. Я была оснащена, будто в горный поход иду, — вот я и добралась до вечеринки. А кроме меня — еще только одна женщина. Так что вместо большой вечеринки на 40 человек был хозяин и две гостьи. Второй была Вэл Макдермид. Она сейчас очень известна в Англии, пишет полицейские триллеры. Но в то время она только что выпустила первую книгу, которая сделала ее знаменитой и позволила бросить основную работу. Я не говорила с ней о своих планах, мы просто болтали про всякое, но в итоге я поняла: она не богиня, не волшебница, обычный человек, как и я. И если уж ей это под силу, то, может быть, и я смогу.
— Давайте поговорим о вашем новом романе. Обычно читатели пропускают мимо глаз страницы с посвящениями, но я хочу попросить вас рассказать о ваших сестрах, которым посвящен роман. Как они связаны с этой книгой?
— На этот вопрос есть два ответа. Один из них очень специфически связан с одной из моих сестер, а второй касается обеих. Я старшая из трех сестер. Мы всегда были очень близки, и, думается, моя личность была сформирована моими сестрами и их примером. Одна из сестер очень похожа на меня, она тоже заядлая читательница. Мы вместе открыли для себя так много книг, и мы до сих пор разговариваем о книгах каждый раз, когда встречаемся. Если ей нравится роман, она всегда пишет мне или звонит мне и говорит: «Ты должна это прочитать!» Благодаря ей я открыла для себя Уилки Коллинза и много кого еще.
Другая моя сестра отличается от нас, она не так любит книги, но у нее очень острый и практичный взгляд на мир. Если в работе возникает момент, когда мне нужно сказать себе: «Ну же, хватит прохлаждаться. Принимайся за дело, давай свернем эту гору» — это во мне говорит моя младшая сестренка Пола. Я могу подумать о ней и в некотором смысле позаимствовать часть ее практичного духа, чтобы сделать работу. Так что обе мои сестры на меня очень повлияли.
Но для этой конкретной книги особенно важной была моя средняя сестра Мэнди. Когда мне было четыре года, а ей два, у нее обнаружили довольно серьезный порок сердца. Это надолго, почти на десятилетие, изменило ход нашей семейной жизни. Мы стали более тревожными, опекали ее и заботились о ее безопасности. Мы надеялись на лучшее, но не были уверены в том, как все обернется. Врачи настаивали на операции, но не могли ее провести на таком маленьком ребенке. Наверное, сегодня им бы это удалось, но в то время подобная операция была невозможна. Из‑за всей этой ситуации я знала о болезнях, больницах и возможности смерти больше, чем большинство маленьких детей. И я всегда пыталась понять все это, уместить в своей голове.
Как‑то я прочитала в бабушкиной газете заметку об утонувшем мальчике в Америке. Его тело вытащили из воды, он не дышал, пульса не было, зрачки расширены, кожа белая — все признаки смерти. Но час спустя он открыл глаза, задышал и ожил.
Я была в восторге, побежала к бабушке, показала ей заметку и сказала: «Надо объяснить Мэнди, что, если она умрет, ей просто нужно будет сделать то же самое, что и тот маленький мальчик, и просто вернуться к жизни».
Бабушке пришлось объяснять мне, что это так не работает, что если уж человек умер, то он действительно умер навсегда. Я верила своей бабушке, потому что знала, что она никогда не врет, и что она вообще знает все: это же бабушка. Но мне также говорили, что газеты отличаются от книг тем, что в газетах пишут правду, а в книгах выдумки. Я совсем запуталась и не знала, верить газете или бабушке. Мне хотелось, чтобы история в газете была правдой. Поэтому я втайне продолжала лелеять надежду на это. Не говорила об этом ни с кем из взрослых, это была моя личная тайна, детская надежда на то, что даже в самом худшем случае сестра могла бы вернуться.
Моя сестра выросла и выздоровела. Прошло десять лет, и я прочитала другую заметку о ребенке, который утонул и вернулся из мертвых. Но это была другая, гораздо более информативная газета, и в ней объяснялась научная основа феномена нырятельного рефлекса млекопитающих. И эта вторая заметка много лет спустя тоже сильно на меня повлияла. Поэтому, если бы не моя сестра Мэнди, я, пожалуй, никогда бы не написала этой книги. Она выросла из этой детской одержимости, беспокойства и эмоций. Я ведь понимала, что мои родители очень беспокоились о Мэнди, и держала все это при себе, потому что чувствовала, что они и без этого уже достаточно обеспокоены. Вот я и держала эту историю при себе, а она росла и росла во мне все эти годы.

— У вас весь прошлый роман вращался вокруг одного персонажа, а в этом — полдюжины равноправных главных героев и героинь. Насколько сложно писать такой густонаселенный роман? И вообще, что для вас самое сложное в этой работе?
— Очень сложно. Я к тому же еще и переезжала несколько раз, пока писала роман. И каждый раз, когда ты переезжаешь, заметки, которыми увешаны стены, перемешиваются, и это все еще больше усложняет. Но я чувствую, что каждая моя книга всегда оказывается более амбициозной, чем я планировала. Я начала писать «Тринадцатую сказку» и постепенно поняла, что в ней должен быть не один рассказчик, а два, что одна сюжетная линия будет в настоящем, а другая — в прошлом. И все это создавало трудности. Я помню, как думала в какой‑то момент: это слишком сложно для первого романа, не стоило мне в это лезть.
Потом я взялась за роман «Беллмен и Блэк», и очень хотела написать что‑то попроще, потому что писать «Тринадцатую сказку» было иногда сложно просто до слез. Я решила: возьму одного героя, одну сюжетную линию, думала, что так будет легче. Но в итоге концептуально и эмоционально эта книга оказалась очень сложной. Потому что это роман о страхе, и когда ты весь день пишешь о страхе, твой мозг не понимает разницы между реальным ужасом и тем страхом, который ты вызываешь в себе, чтобы правдоподобно описать его. В итоге я обнаружила, что стала плохо спать, сердце бьется чаще. Я проводила много времени в воображаемом состоянии страха, чтобы быть ближе к своему персонажу, но мое собственное тело не знало, что этот страх нереален.
Что касается третьего романа — да, самым сложным было количество разных персонажей. Я теперь думаю, что это хорошо — всегда быть немного более амбициозной, чем хочешь, принимать новые вызовы. Если вы ставите перед собой задачу, разбираетесь с ней и используете этот опыт, чтобы написать вторую, третью, четвертую книгу, вы рискуете просто писать одну и ту же книгу снова и снова. Это может сработать раз или два, но в конце концов вам самому станет скучно.
А если автору становится скучно, то читатель уж тем более заскучает.
Так что теперь я думаю, что каждая книга должна вас пугать, должна быть чуть слишком амбициозной. Это, вероятно, заставит вас плакать, и заставит пожалеть, что вы вообще за это взялись, и заставит проклинать себя за это. Но только это позволит вам быть свежим.
— В таких процессах, наверное, очень многое может пойти не так.
— Да, конечно. Когда я работала над первым черновиком, все постоянно шло наперекосяк. А потом ты переписываешь, переписываешь и переписываешь, пока проблемы не будут решены.
— Кстати, вам нравится переписывать — или вы, наоборот, ненавидите этот процесс?
— Ой, обожаю, я люблю переписывать больше, чем писать. Первый черновик самый сложный; заканчивать тоже очень сложно. Ведь я на самом деле не пишу от начала к финалу, я прыгаю туда и сюда по книге. Так что на конец я оставляю самые сложные фрагменты, все сцены, где черновик вышел так себе, что‑то не работает, надо все переписать подчистую — но я ума не приложу, как исправить положение. Все эти сцены ближе к концу работы лежат и ждут, когда я до них доберусь. Есть у меня плохая привычка прокрастинировать и откладывать сложную работу на конец.
А вот промежуточный процесс переписывания мне очень нравится. Приятно брать черновик, написанный, когда я еще не слишком хорошо знала персонажа (есть приблизительное представление о сюжете, но мельчайших деталей еще нет), а потом вернуться и переписать. И тут будто бы двухмерное черно-белое изображение вдруг становится трехмерным и полноцветным. Когда берешь грубый набросок и дорабатываешь его, по-настоящему оживляешь персонажей — это чудесное чувство.
Первый черновик ведь никогда не бывает хорошим. Мне приходится напоминать себе об этом. Кто‑то однажды сказал: нельзя написать хорошую книгу, если вы не готовы сперва написать плохую. Первый вариант никогда не приносит удовлетворения, потому что вы понимаете, что с ним не так. А затем переписываете, и рукопись понемногу становится книгой, которую вы хотели написать.

— А как вы справляетесь с прокрастинацией? У вас есть какой‑нибудь фокус?
— В моем случае прокрастинация — это страх. Я откладываю вещи, потому что боюсь, что не смогу их сделать. А жизнь научила меня тому, что решения трудных проблем не приходят, когда вы напряжены и напуганы. Поэтому нужно найти способ расслабиться и успокоиться, только тогда решение придет. Трудность в том, что вы вдвойне напряжены: во-первых, потому что времени мало, а во-вторых, потому что проблему нужно решить. Как можно успокоиться и расслабиться, если у меня дедлайн через две недели, а задач еще полно? Поэтому я думаю, что нужно очень хорошо изучить свой собственный ум и выяснить, что помогает вам перейти в креативный режим. Творчество и страх исключают друг друга, а мозг, по мне, от природы настроен на творчество. Вот и нужно находить способы расслабиться.
Иногда людям кажется, что с прокрастинацией нужно бороться, превращаясь в злобную директрису, но это не работает. Потому что от этого ты лишь становишься более напряженным.
Твердишь себе: «Работай! Работай! Работай сейчас же!» — это только усугубляет нервозность. Я знаю, что расслабляюсь, когда гуляю вдоль реки и стараюсь не думать о книге. Я смотрю на реку, любуюсь растениями, наблюдаю за птицами, гляжу на проплывающие лодки — все это успокаивает мой разум и физически расслабляет. И когда это происходит, природная креативность начинает решать проблемы сама собой. Это, конечно, теория, а на практике ее реализовать непросто. Потому что я говорю себе: «Нет, ты должна сидеть за столом, пока не допишешь главу», а это контрпродуктивно. Иногда ваш собственный мозг не лучший советчик. Я себе даже по столу расклеила напоминания: «Если застряла — прогуляйся». Но несмотря на все эти бумажки перед глазами, мой мозг иногда говорит: нет, лучше уж я посижу здесь еще часов пять и помучаю себя. А лучше было бы отдохнуть час, а потом еще за час решить проблему.
— Хотел бы задать вам еще один вопрос про роман «Пока течет река», точнее, про саму реку. Ведь метафора реки — это один из самых избитых тропов в истории литературы; у каждого второго автора река представляет течение времени или еще что‑нибудь. Вы не боялись, обращаясь к этому образу, скатиться в банальность?
— Я много об этом думала. Когда я писала книгу, я поняла, что в ней будет немало метафор, связанных с рекой, и опасалась, что их окажется многовато. Но я обнаружила, что, сопротивляясь им, я затрудняла — вот еще одна водная метафора — поток своего мышления, ставила препятствия на собственном пути. И тогда я подумала: ладно, пусть пишется как пишется, а потом я все перечитаю и решу, какие метафоры оставить, а какие убрать. И в конце концов я почти все оставила.
Все дело в людях, о которых я писала. Думаю, что отчасти я даю голос определенному сообществу, живущему и умирающему у реки. Между рекой и обитателями ее берегов есть тесная связь. Вода важна для вас, мы созданы из воды, нам без нее не выжить. Самые древние цивилизации возникали у воды. Вода настолько фундаментально важна для людей, что мне показалось приемлемым сделать ее и фундаментальной частью языка романа.
А еще мне кажется, что эту историю можно прочитать так, будто ее рассказывает своего рода дух реки — и в этом случае весь этот «водный» язык оказывается совершенно естественным. Были случаи, когда я думала поменять какую‑то водную метафору на другую, и обнаруживала, что другие метафоры выглядели слишком поэтичными, нарочитыми — а метафора воды оказывалась очень простой, естественной, даже обыденной. Люди иногда говорят, что они любят мои романы за лиричность, и я рада, если это так. Но сама я очень привязана к обыденности в языке. И порой метафора воды самая ясная, самая очевидная, самая простая и самая уместная.
— Напоследок спрошу еще вот что. Ваш роман при желании можно прочитать как историю о судьбе — о том, как люди сопротивляются ей, но достигают счастья или по крайней мере спокойствия, только приняв свою судьбу. А вы в судьбу верите?
— Ох, вы первый человек, который спросил меня об этом. Верю ли я в судьбу? (Задумывается.) Знаете, на любой из вопросов, которые вы мне задавали, я была готова ответить, а вот на этот у меня нет готового ответа.
Верю ли я в судьбу? Наверное… (неуверенно) нет, не верю. Я думаю, что каждый день жизнь предлагает нам крошечные возможности сделать что‑то хорошее или плохое. Иногда самая маленькая вещь, случайная встреча или подслушанный разговор между незнакомцами, или фраза из книги поражают нас и могут изменить наш путь, подтолкнуть вас в новом направлении. Иногда мы видим эти развилки, а иногда проходим мимо. Но возможность нового всегда рядом.
Когда мы говорим о судьбе, мы воображаем, что люди одиноки. И поэтому у одного человека одна судьба. Но я думаю, что люди не ходят поодиночке, человеческие жизни взаимосвязаны друг с другом, и каждая новая встреча — это набор новых идей и возможностей. Идея судьбы не соответствует моему ощущению реальности, потому что она предполагает, что каждый человек от рождения до смерти живет по прямой линии, но на самом деле мы ходим по лабиринту, где постоянно сталкиваемся с другими людьми, и выбираем разные пути. Это то, что нас меняет, то, что постоянно дает нам возможность обновления.



